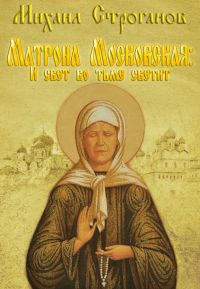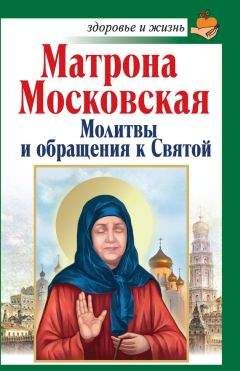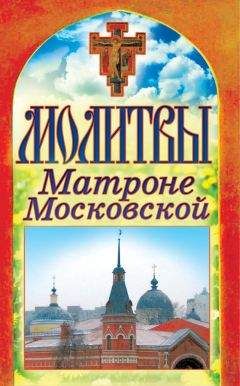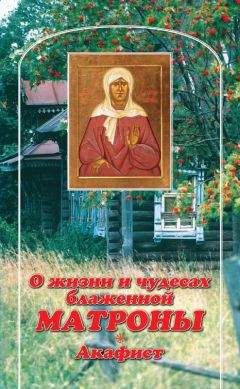С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
За пристальным, почти любопытствующим вниманием к боли — до какой силы дойдет она на этот раз? — за взрывами саркастического злорадства над собой или истовыми жестами покорности испытанию, как в Книге Иова:
Der Herr hat gegeben, genommen,
Gelobt sei der Wille des Herrn!
(«Господь дал, Господь взял, да будет воля Господня благословенна!») —
глубже, чем все это, у Брентано каждый раз ощутима надежда на последний катарсис «лебединой песни», долженствующий претворить страдание — в радость и смерть — в брачный праздник:
Alle Leiden sind Freuden, alle Schmerzen scherzen,
Und das ganze Leben singt aus meinem Herzen:
Siisser Tod, siisser Tod
Zwischen dem Morgenund Abendrot!
(«Все страдания — упоения, все муки — шутки, и вся жизнь поет из моего сердца: о, сладостная смерть, сладостная смерть между утренней и вечерней зарей!»)
Это очень глубокий, хотя и духовно опасный, мотив, с которым по дерзновенности могут сравниться разве что строки из «Гимнов к ночи» Новалиса:
Hinuber wall ich,
Und jede Pein
Wird einst ein Stachel
Der Wollust sein…
(«Я восхожу горе, и каждая мука станет некогда стрекалом наслаждения…»)
Вообще говоря, из романтических предшественников Брентано один Новалис ему «равномощен», как выразилась бы Цветаева. Но ни здесь, ни где–либо еще Новалис не дает ничего подобного тому птичьему щебету, тому избыточному богатству звуков, которым разражается в подобных случаях лирика Брентано. У Новалиса — больше чистой мысли, у Брентано — больше поэзии, то есть действия самой стихии слова, переливающейся всеми красками фонического спектра. Слово «стихия» в данном случае уместно; не многие поэты в такой мере дают языку изливать свою собственную энергию, превращая свой авторский замысел как бы в предлог для прорыва этой энергии. Сказанного не надо понимать слишком буквально, пассивность — лишь момент, диалектически сочетавшийся с творческой стратегией поэта, с тщательной разработкой мгновенных озарений, подчас растягивающейся на многие годы[240]. Рукописи свидетельствуют, что так называемой работы над языком было предостаточно (хотя в применении к Брентано странно пользоваться таким скучным оборотом речи). Но работа эта была направлена не столько на то, чтобы подчинить стихию, сколько на то, чтобы высвободить, расколдовать ее. Отношения между автором и языком здесь настолько стоят под знаком Эроса и присущего Эросу лукавства, что лучше не спрашивать, кто кого ведет и кто за кем следует. Поэзия Брентано, не будучи «умственной», очень умная, умная именно как поэзия, и в сравнении с ней многие прекрасные немецкие стихи прославленных поэтов кажутся немного простоватыми; но ум ее — как бы женский ум, сильный не логикой, а почти устрашающей догадливостью, гибкостью и чуткостью. К теориям, как философским, так и литературным, Брентано относился с инстинктивным недоверием, резко выделявшим его среди романтических умников. «Врата философской абстракции, — сознавался он без особого огорчения, — для меня закрыты»[241]. И еще «Самая лучшая теория искусства всегда кажется мне нарочитой и недостаточной»[242]. Зато у него были такие руки, что слова шли в них сами, как приручаемые и приманиваемые твари Божьи.
Мы уже не раз упоминали самую непосредственно–чувственную, а потому самую «стихийную» сторону стихии слова у Брентано — игру звуков. Этого соловьиного щелканья согласных и завораживающего пения гласных абсолютно не с чем сравнить в немецкой поэзии той поры, как и времен, непосредственно ей предшествовавших. Лишь гораздо дальше, в народной песне и в забытом наследии барокко (то и другое было для Брентано предметом серьезного изучения), имелись задатки, которые, однако, еще надо было много развивать и усиливать, чтобы довести до такой концентрации.
Уже через несколько лет после того, как немецкий поэт сойдет в могилу, в далекой Америке ничего о нем не знающий Эдгар По изобретет звуковую технику «Улялум» и «Колоколов», которая постепенно станет европейской сенсацией и найдет многочисленных подражателей — вплоть до Бальмонта. Но как раз здесь стоит задуматься о различии. Говоря ненаучно, мастерство Брентано отличается от виртуозности и «техничности» По, как умение наездника, не только ладящего со своим конем, а прямотаки срастающегося с ним в одно целое, от схем инженера, вычисляющего эффект. Чтобы выжать из звуков речи все, что мыслимо, По как бы выделяет фонику в неестественной химической чистоте, пренебрегая иными факторами речевой «музыки» — стилистцческой стереоскопичностью, лексической характерностью слова. Молодой Мандельштам сказал о нем: «Значенье — суета, и слово — только шум, // Когда фонетика — служанка серафима»[243]; о «серафичности» можно было бы поспорить — она явно имеет больше касательства к бальзаковской Серафите, чем к шестикрылым существам Библии, — но слово у По действительно редуцировано до шума, и притом не в результате просчета, а в порядке эффективного осуществления замысла, проведения программы. Лексика выровнена, приведена к одному знаменателю, чтобы служить простым фоном демонстрации звуковых достижений. Недаром этот поэт — едва ли не единственный, кого мог вполне адекватно переводить Бальмонт; Брентано был бы ему не по зубам. Чтобы оценить дистанцию, достаточно вспомнить наугад несколько строк из брентановской вариации на тему народной песни о цветах, которые скосит смерть («Es ist ein Schnitter, der heiBt Tod…» — «Есть жнец, который зовется Смерть…»), где игра звуков совершенно неотторжимо связана с контрастами народных и латинских ботанических обозначений, вообще слов обычных и редкостных, а в конечном счете — с напряжением между фольклорной интонацией и тонкостями романтического психологизма («das hoffende Ranken der kranken Gedanken» — «всуе надеющиеся побеги больных мыслей»), приведенными, однако, в некую парадоксальную гармонию с унылым простосердечием старинной песни:
Du himmelfarben Ehrenpreis,
Du Traumer, Mohn, rot, gelb und weiB,
Aurikeln, Ranunkeln,
Und Nelken, die funkeln,
Und Malven und Narden
Braucht nicht lang zu warten…
(«Ты, небесно–голубая вероника, ты, мечтатель–мак, красный, желтый и белый, медвежьи ушки, лютики и мерцающие гвоздики, и мальвы, и нарды, — ждать вам осталось недолго…»)
И если говорить о самих созвучиях, казалось бы, столь необузданных и неумеренных, как раз этот пример свидетельствует, в какой степени они подчинены гибкому такту. Ассонансы в первых двух строках смягчены, почти приглушены посредством одного и того же приема: доминирующий гласный дублируется соответствующим дифтонгом (а — ei, о — аи); однако во второй строке ассонанс все же сильнее, ибо гласный наряду с этим и в чистом своем виде дан дважды, в следующих непосредственно друг за другом односложных словах Mohn и rot, причем его энергия усугублена тем, что на второе из этих слов падает сверхсхемное ударение. В третьей и четвертой строках вместо ассонансов в действие вступает более сильнодействующее средство — аллитерации; согласные η — к — 1 — η подготавливают (тем способом, который у поклонников Соссюра принято называть анаграмматическим[244]) тот глагол «funkeln», в котором сконцентрирован смысл всего места, поскольку в нем говорится о цветовом и световом блистании, сверкании, мерцании, являемом луговой флорой до поры, когда смерть погасит все огоньки. И здесь, как всегда у Брентано, фоническое fortissimo с безошибочностью реакций живого организма отвечает смысловой и эмоциональной эмфазе. Все звуки — для того, чтобы извлечь из слова «funkeln» всю полноту его словарного значения, высечь из него искру — «Funke». Теперь, когда эта искорка зажглась и горит точно в середине строфы, нет причин дальше нагнетать аллитерации; в пятой и шестой строках на первое место опять выходят ассонансы, однако более энергичные, чем вначале, — хотя бы за счет того, что доминирующий гласный является общим для обеих строк и повторен в чистом виде четыре раза, да еще один раз входит в состав дифтонга (а — а — au — а — а). На эти строки как бы падает отблеск роскошества двух предыдущих, с которыми они сближены единством размера (двустопные амфибрахии после четырехстопных ямбов вначале) и другими средствами. Всему в целом придано формально выявленное историческое измерение, в основном за счет двух факторов: во–первых, начальная строка, так перекликающаяся со второй, будто они с самого рождения были вместе, в действительности представляет собой сознательно обыгрываемую цитату из народной песни:
Das himmelfarbne Ehrenpreis,
Tulipanen gelb und weifi…
(«Небесно–голубая вероника, желтые и белые тюльпаны…»);
во–вторых, ходовые обозначения цветов Gebirgsprimel (горная примула) и NahnenfiiBgewachs (лютик) заменены роскошными латинизмами Aurikeln и Ranunkeln, не только повышающими звуковую потенцию строки, но одновременно вызывающими в памяти латинизмы барочной поэзии (для параллели можно вспомнить потешно–старомодные галлицизмы в сказках Брентано, а впрочем, и в стихотворении «Am St. Niklastag. 1826» («На Николин день 1826»), где зарифмованы «komplett» и «Serviett». Так именно через фонику просвечивает глубина времени, и с той простотой, с какой ребенок глядит взглядом матери или повторяет движение деда, в стихе Брентано слышится отголосок дикции какогонибудь из стихотворствующих католических священников XVII века — Фридриха Шпее, которого именно Брентано открыл после долгого забвения, или Лаврентия из Шнюффиса с его Мирантом и Клориндой, или Иоганна Кюна: